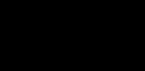Бочонок Амонтильядо
Эдгар Алан По
Эдгар Аллан По
БОЧОНОК АМОНТИЛЬЯДО
Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортунато, но, когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, так хорошо знающий природу моей души, не думаете, конечно, что я вслух произнес угрозу. В конце концов я буду отомщен: это было твердо решено, – но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мстителя настигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару.
Ни словом, ни поступком я не дал Фортунато повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо; и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.
У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности, – для того, чтобы удобнее надувать английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортунато, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном; но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы: я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу.
Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром, – как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить; он был одет арлекином: яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая.
Я сказал ему:
– Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере, продавец утверждает, что это амонтильядо, но у меня есть сомнения.
– Что? – сказал он. – Амонтильядо? Целый бочонок? Не может быть! И еще в самый разгар карнавала!
– У меня есть сомнения, – ответил я, – и я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.
– Амонтильядо!
– У меня сомнения.
– Амонтильядо!
– И я должен их рассеять.
– Амонтильядо!
– Вы заняты, поэтому я иду к Лукрези, Если кто может мне дать совет, то только он. Он мне скажет…
– Лукрези не отличит амонтильядо от хереса.
– А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас.
– Идемте.
– В ваши погреба.
– Нет, мой друг. Я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукрези…
– Я не занят. Идем.
– Друг мой, ни в коем случае. Пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены. В погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой.
– Все равно, идем. Простуда – это вздор. Амонтильядо! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрези – он не отличит хереса от амонтильядо.
Говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотней запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо.
Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной.
Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов; Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезоров.
Мой друг шел нетвердой походкой, бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге.
– Где же бочонок? – сказал он.
Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения.
– Селитра? – спросил он после молчания.
– Селитра, – подтвердил я. – Давно ли у вас этот кашель?
– Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха!
В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.
– Это пустяки, – выговорил он наконец.
– Нет, – решительно сказал я, – вернемся. Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградимой утратой. Другое дело я – обо мне некому горевать. Вернемся. Вы заболеете, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукрези…
– Довольно! – воскликнул он. – Кашель – это вздор, он меня не убьет! Не умру же я от кашля.
– Конечно, конечно, – сказал я, – и я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу. Однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого медока защитит вас от вредного действия сырости.
Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко.
– Выпейте, – сказал я, подавая ему вино.
Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне, бубенчики его зазвенели.
– Я пью, – сказал он, – за мертвецов, которые покоятся вокруг нас.
– А я за вашу долгую жизнь.
– Эти склепы, – сказал он, – весьма обширны.
– Монтрезоры старинный и плодовитый род, – сказал я.
– Я забыл, какой у вас герб?
– Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку.
– А ваш девиз?
– Nemo me impune lacessit!
– Недурно! – сказал он.
Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах сложены были скелеты вперемежку с бочонками и большими бочками. Наконец мы достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился и на этот раз позволил себе схватить Фортунато за руку повыше локтя.
– Селитра! – сказал я. – Посмотрите, ее становится все больше. Она, как мох, свисает со сводов. Мы сейчас находимся под самым руслом реки. Вода просачивается сверху и каплет на эти мертвые кости. Лучше уйдем, пока не поздно. Ваш кашель…
– Кашель – это вздор, – сказал он. – Идем дальше. Но сперва еще глоток медока.
Я взял бутылку деграва, отбил горлышко и подал ему. Он осушил ее одним духом. Глаза его загорелись диким огнем. Он захохотал и подбросил бутылку кверху странным жестом, которого я не понял.
Я удивленно взглянул на него. Он повторил жест, который показался мне нелепым.
– Вы не понимаете? – спросил он.
– Нет, – ответил я.
– Значит, вы не принадлежите к братству.
– Какому?
– Вольных каменщиков.
– Нет, я каменщик, – сказал я.
– Вы? Не может быть! Вы вольный каменщик?
– Да, да, – ответил я. – Да, да.
– Знак, – сказал он, – дайте знак.
– Вот он, – ответил я, распахнув домино и показывая ему лопатку.
– Вы шутите, – сказал он, отступая на шаг. – Однако где же амонтильядо? Идемте дальше.
– Пусть будет так, – сказал я, пряча лопатку в складках плаща и снова подавая ему руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали путь в поисках амонтильядо. Мы прошли под низкими арками, спустились по ступеням, снова прошли под аркой, снова спустились и наконец достигли глубокого подземелья, воздух в котором был настолько сперт, что факелы здесь тускло тлели, вместо того чтобы гореть ярким пламенем.
В дальнем углу этого подземелья открывался вход в другое, менее поместительное. Вдоль его стен, от пола до сводчатого потолка, были сложены человеческие кости, – точно так, как это можно видеть в обширных катакомбах, проходящих под Парижем. Три стены были украшены таким образом; с четвертой кости были сброшены вниз и в беспорядке валялись на земле, образуя в одном углу довольно большую груду. Стена благодаря этому обнажилась, и в ней стал виден еще более глубокий тайник, или ниша, размером в четыре фута в глубину, три в ширину, шесть или семь в высоту. Ниша эта, по-видимому, не имела никакого особенного назначения; то был просто закоулок между двумя огромными столбами, поддерживавшими свод, а задней ее стеной была массивная гранитная стена подземелья.
Напрасно Фортунато, подняв свой тусклый факел, пытался заглянуть в глубь тайника. Слабый свет не проникал далеко.
– Войдите, – сказал я. – Амонтильядо там. А что до Лукрези…
– Лукрези невежда, – прервал меня мой друг и нетвердо шагнул вперед. Я следовал за ним по пятам. Еще шаг – и он достиг конца ниши. Чувствуя, что каменная стена преграждает ему путь, он остановился в тупом изумлении. Еще миг – и я приковал его к граниту. В стену были вделаны два кольца, на расстоянии двух футов одно от другого. С одного свисала короткая цепь, с другого – замок. Нескольких секунд мне было достаточно, чтобы обвить цепь вокруг его талии и запереть замок. Он был так ошеломлен, что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад и покинул нишу.
– Проведите рукой по стене, – сказал я. – Вы чувствуете, какой на ней слой селитры? Здесь в самом деле очень сыро. Еще раз умоляю вас – вернемся. Нет? Вы не хотите? В таком случае я вынужден вас покинуть. Но сперва разрешите мне оказать вам те мелкие услуги, которые еще в моей власти.
– Амонтильядо! – вскричал мой друг, все еще не пришедший в себя от изумления.
– Да, – сказал я, – амонтильядо.
С этими словами я повернулся к груде костей, о которой уже упоминал. Я разбросал их, и под ними обнаружился порядочный запас обтесанных камней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей лопаткой, я принялся поспешно замуровывать вход в нишу.
Я не успел еще уложить и один ряд, как мне стало ясно, что опьянение Фортунато наполовину уже рассеялось. Первым указанием был слабый стон, донесшийся из глубины тайника. То не был стон пьяного человека. Затем наступило долгое, упорное молчание. Я выложил второй ряд, и третий, и четвертый; и тут я услышал яростный лязг цепи. Звук этот продолжался несколько минут, и я, чтобы полнее им насладиться, отложил лопатку и присел на груду костей. Когда лязг наконец прекратился, я снова взял лопатку и без помех закончил пятый, шестой и седьмой ряд. Теперь стена доходила мне почти до груди. Я вновь приостановился и, подняв факел над кладкой, уронил слабый луч на темную фигуру в тайнике.
Громкий пронзительный крик, целый залп криков, вырвавшихся внезапно из горла скованного узника, казалось, с силой отбросил меня назад. На миг я смутился, я задрожал. Выхватив шпагу из ножен, я начал шарить ее концом в нише, но секунда размышления вернула мне спокойствие. Я тронул рукой массивную стену катакомбы и ощутил глубокое удовлетворение. Я вновь приблизился к стенке и ответил воплем на вопль узника. Я помогал его крикам, я вторил им, я превосходил их силой и яростью. Так я сделал, и кричавший умолк.
Была уже полночь, и труд мой близился к окончанию. Я выложил восьмой, девятый и десятый ряд. Я довел почти до конца одиннадцатый и последний, оставалось вложить всего один лишь камень и заделать его. Я поднял его с трудом; я уже наполовину вдвинул его на предназначенное место. Внезапно из ниши раздался тихий смех, от которого волосы у меня встали дыбом. Затем заговорил жалкий голос, в котором я едва узнал голос благородного Фортунато.
– Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Отличная шутка, честное слово, превосходная шутка! Как мы посмеемся над ней, когда вернемся в палаццо, – хи-хи-хи! – за бокалом вина – хи-хи-хи!
– Амонтильядо! – сказал я.
– Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Да, да, амонтильядо. Но не кажется ли вам, что уже очень поздно? Нас, наверное, давно ждут в палаццо… и синьора Фортунато и гости?.. Пойдемте.
– Да, – сказал я. – Пойдемте.
– Ради всего святого, Монтрезор!
– Да, – сказал я. – Ради всего святого.
Но я напрасно ждал ответа на эти слова. Я потерял терпение.
Я громко позвал:
– Фортунато!
Молчание. Я позвал снова.
– Фортунато!
По-прежнему молчание. Я просунул факел в не заделанное еще отверстие и бросил его в тайник. В ответ донесся только звон бубенчиков. Сердце у меня упало: конечно, только сырость подземелья вызвала это болезненное чувство. Я поспешил закончить свою работу. Я вдвинул последний камень на место, я заделал его. Вдоль новой кладки я восстановил прежнее ограждение из костей. Полстолетия прошло с тех пор, и рука смертного к ним не прикасалась. In pace requiescat! [Да почиет в мире! _(Лат.)_]
Никто не оскорбит меня безнаказанно! _(Лат.)_
Эдгар Аллан По
БОЧОНОК АМОНТИЛЬЯДО
Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортунато, но, когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, так хорошо знающий природу моей души, не думаете, конечно, что я вслух произнес угрозу. В конце концов я буду отомщен: это было твердо решено, - но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мстителя настигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару.
Ни словом, ни поступком я не дал Фортунато повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо; и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.
У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности, - для того, чтобы удобнее надувать английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортунато, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном; но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы: я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу.
Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром, - как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить; он был одет арлекином: яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая.
Я сказал ему:
Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере, продавец утверждает, что это амонтильядо, но у меня есть сомнения.
Что? - сказал он. - Амонтильядо? Целый бочонок? Не может быть! И еще в самый разгар карнавала!
У меня есть сомнения, - ответил я, - и я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.
Амонтильядо!
У меня сомнения.
Амонтильядо!
И я должен их рассеять.
Амонтильядо!
Вы заняты, поэтому я иду к Лукрези, Если кто может мне дать совет, то только он. Он мне скажет…
Лукрези не отличит амонтильядо от хереса.
А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас.
В ваши погреба.
Нет, мой друг. Я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукрези…
Я не занят. Идем.
Друг мой, ни в коем случае. Пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены. В погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой.
Все равно, идем. Простуда - это вздор. Амонтильядо! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрези - он не отличит хереса от амонтильядо.
Говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотней запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо.
Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной.
Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов; Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезоров.
Мой друг шел нетвердой походкой, бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге.
Где же бочонок? - сказал он.
Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения.
Селитра? - спросил он после молчания.
Селитра, - подтвердил я. - Давно ли у вас этот кашель?
Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха!
В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.
Это пустяки, - выговорил он наконец.
Нет, - решительно сказал я, - вернемся. Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградимой утратой. Другое дело я - обо мне некому горевать. Вернемся. Вы заболеете, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукрези…
Довольно! - воскликнул он. - Кашель - это вздор, он меня не убьет! Не умру же я от кашля.
Конечно, конечно, - сказал я, - и я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу. Однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого медока защитит вас от вредного действия сырости.
Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко.
Выпейте, - сказал я, подавая ему вино.
Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне, бубенчики его зазвенели.
Я пью, - сказал он, - за мертвецов, которые покоятся вокруг нас.
А я за вашу долгую жизнь.
Эти склепы, - сказал он, - весьма обширны.
Монтрезоры старинный и плодовитый род, - сказал я.
Я забыл, какой у вас герб?
Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку.
А ваш девиз?
Недурно! - сказал он.
Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах сложены были скелеты вперемежку с бочонками и большими бочками. Наконец мы достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился и на этот раз позволил себе схватить Фортунато за руку повыше локтя.
», которые объединяет с «Бочонком амонтильядо» сюжетное построение, основанное на исповеди убийцы.
Сюжет
Монтрезор, представитель обедневшего дворянского рода, рассказывает о той ночи, когда он совершил возмездие, отомстив своему товарищу, процветающему дворянину Фортунато за многочисленные издевательства и унижения, впрочем, не раскрывая подробностей последних (что дает широкий простор для их трактовок, вплоть до мнимости). Монтрезор всё точно рассчитал и предусмотрел.
Я не только должен был наказать, но и наказать без всякой опасности для себя. Обида не отомщена, если мстителя постигает наказание; она, в равной мере, не отомщена и тогда, когда мститель не позаботится о том, чтобы совершивший обиду знал, - кто ему мстит.
Час мести был назначен на самый разгар карнавала . Монтрезор позаботился, чтобы в его поместье никого не было, и отправился на праздник искать Фортунато. Вскоре он его встретил, изрядно пьяного, простуженного и в шутовском колпаке с бубенчиками.
Монтрезор начал дразнить Фортунато, выдумав, что купил целый бочонок амонтильядо (около 130 галлонов ). Фортунато - известный знаток вин и очень гордится своей репутацией в этом вопросе. Амонтильядо - вино редкое и дорогое, особенно во время карнавала, и Фортунато сомневается в том, что Монтрезору продали настоящий товар. Монтрезор подыгрывает своей жертве, и будто бы тоже опасается, что его обманули. Чтобы убедиться в подлинности вина, Монтрезор намеревается обратиться к Лючези, другому знатоку вин. Самолюбие Фортунато задето, к тому же бочонок вызывает его живейшее любопытство, и, несмотря на притворные отговорки и убеждения Монтрезора, Фортунато решительно направляется к подвалам своего врага, сопровождаемый своим будущим палачом.
В подвалах холодно и сыро, а Фортунато одолевает кашель, и Монтрезор, сопровождая друга по подземелью, время от времени предлагает ему согревающий глоток медока , Фортунато всё больше хмелеет. По дороге к цели Фортунато спрашивает о гербе Монтрезоров, на что хозяин ему отвечает: «Герб представляет собой ступню на синем фоне, наступающую на змею, которая кусает ступню за пятку». Девиз: Nemo me impune lacessit (Никто не уязвит меня безнаказанно). Также Фортунато интересуется у Монтрезора, не принадлежит ли он к масонской ложе , и с удивлением слышит утвердительный ответ. На требование доказательства Монтрезор демонстрирует приготовленную лопатку для кладки стен. Пьяный Фортунато очень удивлен, но по-прежнему не видит нависшей над ним угрозы.
Наконец они приходят к нише, в которой, по словам Монтрезора, и находится бочонок амонтильядо. Фортунато доверчиво ступает в нишу, и Монтрезор тут же приковывает его наручниками к стене. Жертва всё ещё не понимает, что происходит.
Затем Монтрезор начинает выкладывать каменную стену, замуровывая Фортунато в нише. Фортунато кричит, ругается, умоляет его выпустить, но Монтрезор эхом отвечает ему, стремясь перекричать свою жертву. Наконец Фортунато замолкает. Осталось положить последний камень и судьба пленника будет решена. Фортунато делает последнюю отчаянную попытку обратить всё происходящее в шутку, Монтрезор опять подыгрывает ему, и кладет последний камень. После чего покидает подземелье.
Рассказ заканчивается так:
Я просунул фонарь сквозь остававшееся отверстие и бросил его внутрь ниши. В ответ я услышал лишь звон колокольчиков. Я почувствовал себя дурно, без сомнения - вследствие сырости катакомб. Я поспешил окончить работу. Я сделал усилие и приладил последний камень; я его покрыл известкой. К новой стене я прислонил старую насыпь из костей. Прошло полвека, и ни один смертный их не тронул. In расе requiescat !
Публикация рассказа
Впервые «Бочонок амонтильядо» был опубликован в ноябрьском выпуске Godey"s Lady"s Book , самого популярного американского журнала того времени. При жизни По рассказ был переиздан всего один раз.
Анализ
Несмотря на то, что убийство является центральной темой рассказа, его нельзя отнести к детективному жанру , как «Убийства на улице Морг» или «Похищенное письмо»; в «Бочонке амонтильядо» не описывается расследование преступления, преступник сам о нём рассказывает. Загадка рассказа в том, что мотив убийства остаётся неизвестным для читателя. Таким образом, вся «детективная» часть остаётся ему, читатель волен сам домысливать предысторию убийства.
Хотя Монтрезор не раскрывает причин своего поступка, он упоминает о «тысячах унижений», которые якобы претерпел от Фортунато. Многие комментаторы на основании этого странного объяснения делают вывод, что Монтрезор, вероятно, сумасшедший , но и такая версия вызывает вопросы, так как в своих действиях Монтрезор очень хитёр и расчётлив.
Фортунато представлен как тонкий ценитель дорогих вин, однако и это вызывает сомнения. Он напился до такого состояния, что вряд ли смог бы оценить подлинность амонтильядо. Кроме того, во время одной из остановок на пути к бочонку Фортунато залпом выпивает флягу De Grave, дорогого французского вина, что не делает ему чести как знатоку.
Не исключено, что По не понаслышке был знаком с работой каменщика. Ему приходилось зарабатывать разным трудом, и в его биографии много «белых пятен», в частности неизвестно, чем он занимался в 1837 году , сразу после ухода из Southern Literary Messenger . Биограф По, Джон Ингрэм писал Саре Уитман, что некто по имени Аллен (Allen ) упоминал, будто бы По работал на кирпичном заводе осенью 1834 года . Вероятно, речь идёт о Роберте Аллене (Robert T. P. Allen ), товарище Эдгара По по Военной Академии .
Темы и символы
В рассказе используются типичные для произведений По темы и символы:
- Исповедь убийцы - см. также «Чёрный кот », «Сердце-обличитель »
- Замуровывание тела - см. также «Чёрный кот », «Сердце-обличитель »
- Погребение заживо - см. также «Береника », «Падение дома Ашеров », «Преждевременное погребение »
- Маскарад, карнавал, шутовство, страшное и роковое под маской смешного и несерьёзного - см. также «Маска Красной смерти », «Прыг-Скок », «Вильям Вильсон »
История написания
Согласно позднейшей легенде, Эдгар По написал «Бочонок амонтильядо», находясь под впечатлением от рассказа, услышанного в 1827 году , во время пребывания в крепости Castle Island (Южный Бостон , штат Массачусетс). Он будто бы обратил внимание на памятник лейтенанту Роберту Мэсси, который был убит на дуэли в Рождество 1817 года лейтенантом Густависом Дрейном. Солдаты решили отомстить за смерть Мэсси, напоили Дрейна, заманили его в подземелье, приковали к стене и замуровали.
Сообщение о найденном на острове скелете могло наложиться на другой источник, который был знаком По: книгу Джоэла Хидли (Joel Headley) «A Man Built in a Wall» (1844), в которой автор описывает увиденный им скелет, замурованный в стену итальянской церкви. История Хидли содержит ряд деталей, очень близких к «Бочонку амонтильядо»; кроме замуровывания врага в нише, в ней говорится об аккуратной каменной кладке, мотиве мести, предсмертных стонах жертвы.
По мог наткнуться на идею для рассказа и в новелле Оноре де Бальзака (опубликована в Democratic Review , в ноябре 1843) или в произведении своего друга Джорджа Липпарда The Quaker City; or The Monks of Monk Hall (1845). Девиз Монтрезоров Nemo me impune lacessit мог быть позаимствован у Фенимора Купера в его «Последнем из могикан » (1826).
 Эдгар По написал эту историю, как ответ своему противнику, Томасу Данну Инглишу (Thomas Dunn English
). Конфликт начался с того, что По высмеял Инглиша в своих очерках. Затем в январе 1846 года имела место потасовка с рукоприкладством, после которой их распря перебралась на страницы журналов. Последовало несколько заочных стычек, в основном вокруг литературных карикатур друг на друга. Однажды Инглиш зашёл слишком далеко, и в том же 1846 году По удалось привлечь издателя The New York Mirror
к ответственности за клевету. Инглиш отозвался публикацией, под названием 1844, or, The Power of the S.F.
, сюжет которой строился на мести, был невнятным и запутанным, включал в себя тайные общества . Герой произведения по имени Мармадьюк Хаммерхед (Marmaduke Hammerhead
), знаменитый автор «Чёрной вороны» (The Black Crow), произносит такие фразы как «Nevermore» и «lost Lenore», что, конечно, является прямым цитированием поэмы «Ворон ». Двойник Эдгара По из рассказа Инглиша - пьяница, лжец и домашний тиран.
Эдгар По написал эту историю, как ответ своему противнику, Томасу Данну Инглишу (Thomas Dunn English
). Конфликт начался с того, что По высмеял Инглиша в своих очерках. Затем в январе 1846 года имела место потасовка с рукоприкладством, после которой их распря перебралась на страницы журналов. Последовало несколько заочных стычек, в основном вокруг литературных карикатур друг на друга. Однажды Инглиш зашёл слишком далеко, и в том же 1846 году По удалось привлечь издателя The New York Mirror
к ответственности за клевету. Инглиш отозвался публикацией, под названием 1844, or, The Power of the S.F.
, сюжет которой строился на мести, был невнятным и запутанным, включал в себя тайные общества . Герой произведения по имени Мармадьюк Хаммерхед (Marmaduke Hammerhead
), знаменитый автор «Чёрной вороны» (The Black Crow), произносит такие фразы как «Nevermore» и «lost Lenore», что, конечно, является прямым цитированием поэмы «Ворон ». Двойник Эдгара По из рассказа Инглиша - пьяница, лжец и домашний тиран.
По ответил «Бочонком амонтильядо», полным узнаваемых отсылок к новелле Инглиша. У По, например, Фортунато демонстрирует свою причастность к масонской ложе, или, во всяком случае, осведомлённость о её деятельности, в рассказе 1844 Инглиш тоже говорит о тайном обществе; даже описанный По жест похож аналогичен жесту из 1844 (там это был сигнал об опасности). Инглиш упоминает знак - сокол, держащий в когтях змею; на гербе Монтрезоров нога, наступающая на змею, вонзившую зубу в её пятку. Большая часть сцены в катакомбах Монтрезоров повторяет сцену в подземелье из 1844 . В итоге именно Эдгар По «воздал безнаказанно», написав краткий рассказ в противовес пространному произведению Инглиша и не запросив гонорара за свою публикацию. Кроме того, По использовал так называемый «единичный эффект», приём, суть которого он изложил в «Философии творчества » (1846). Несмотря на локальную литературную победу, распря с Инглишем оказала разрушительное действие на репутацию По, так как многие его слабости и пороки оказались достоянием общественности.
Эдгар По также мог быть вдохновлён, по крайней мере отчасти, на написание этой истории Вашингтонским движением , общественной организацией, пропагандировавшей отказ от употребления спиртных напитков. Общество состояло в основном из бывших потребителей алкоголя, предостерегавших своих сограждан. Писатель мог пообещать присоединиться к движению в 1843 году, после череды запоев, в надежде получить поддержку политиков, и, возможно, какую-нибудь политическую или общественную должность. В таком случае, «Бочонок амонтильядо» можно рассматривать как некий «чёрный пиар» потребления алкоголя, в рассказе иносказательно продемонстрированы последствия алкоголизма: алкоголик не осознаёт грозящей ему опасности, пока не становится слишком поздно.
Исследователь творчества Эдгара По, Ричард Бентон (Richard P. Benton) утверждает, что «протагонист рассказа - это англифицированная версия французских Монтрезоров», в частности, он уверен, что прообразом Монтрезора-убийцы стал Клод де Бурдель (Claude de Bourdeille ), граф Монтрезор, политический авантюрист XVII века из окружения Гастона Орлеанского , слабовольного брата короля Людовика XIII . Впервые «известный интриган и мемуарист» был соотнесён с убийцей из «Бочонка амонтильядо» исследователем Бёртоном Поллином (Burton R. Pollin ).
Влияние на литературу
В дальнейшем рассказ экранизировали ещё несколько раз, однако популярности эти попытки не имели. Существует довольно много телепостановок по рассказу, самая известная из них - моноспектакль Винсента Прайса 1972 года «An Evening of Edgar Allan Poe ». Кроме «Бочонка амонтильядо» Прайс читает рассказы «Сердце-обличитель », «Сфинкс » и «Колодец и маятник ».
Музыка
- Одна из композиций The Alan Parsons Project с концептуального альбома Tales of Mystery and Imagination (1976) основана на этом рассказе По и называется так же: The Cask of Amontillado.
- На альбоме Лу Рида The Raven (2003) также присутствует песня, написанная по этой истории, под названием «The Cask».
- Группа Blitzkid, Альбом Apparitional(2011),песня под названием Casque of Amontillado
Массовая культура
Сорт испанского вина стал широко известен во всем мире вне круга любителей вин в первую очередь благодаря рассказу «Бочонок амонтильядо».
Напишите отзыв о статье "Бочонок амонтильядо"
Примечания
- Cecil, L. Moffitt. «», from Poe Studies , Vol. V, no. 2. December 1972. p. 41.
- Sova, Dawn B. Edgar Allan Poe: A to Z . Checkmark Books, 2001. ISBN 0-8160-4161-X p. 45
- , Kenneth Silverman ISBN 0521422434 p. 101
- (недоступная ссылка с 09-09-2013 (2031 день) - история , копия ) at the Edgar Allan Poe Society online
- Baraban, Elena V. «», Rocky Mountain E-Review of Language and Literature . Volume 58, Number 2. Fall 2004.
- Silverman, Kenneth. . New York: Harper Perennial, 1991: 129-130. ISBN 0-06-092331-8
- Thomas, Dwight & David K. Jackson. The Poe Log: A Documentary Life of Edgar Allan Poe, 1809-1849 . New York: G. K. Hall & Co., 1987: 141. ISBN 0-7838-1401-1 .
- Bergen, Philip. Old Boston in Early Photographs . Boston: Bostonian Society, 1990. p. 106
- Wilson, Susan. Literary Trail of Greater Boston . Boston: Houghton Mifflin Company, 2000: 37. ISBN 0-618-05013-2
- Mabbott, Thomas Ollive , editor. Tales and Sketches: Volume II . Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 2000. p. 1254
- Reynolds, David F. «Poe’s Art of Transformation: "The Cask of Amontillado" in Its Cultural Context», сборник The American Novel: New Essays on Poe’s Major Tales , Kenneth Silverman , ed. Cambridge University Press, 1993. ISBN 0521422434 pp. 94-5
- Jacobs, Edward Craney. «», сборник Poe Studies , vol. VIII, no. 1. June 1976.
- Silverman, Kenneth. Edgar A. Poe: Mournful and Never-ending Remembrance . New York: Harper Perennial, 1991: 312-313. ISBN 0-06-092331-8
- Rust, Richard D. «Punish with Impunity: Poe, Thomas Dunn English and "The Cask of Amontillado"» in The Edgar Allan Poe Review , Vol. II, Issue 2 - Fall, 2001, St. Joseph’s University.
- Reynolds, David F. «Poe’s Art of Transformation: "The Cask of Amontillado" in Its Cultural Context», сборник The American Novel: New Essays on Poe’s Major Tales , Kenneth Silverman , ed. Cambridge University Press, 1993. ISBN 0521422434 p. 96-7
- Benton, Richard P. (June 1996). «Poe"s "The Cask of Amontillado": Its Cultural and Historical Backgrounds». Poe Studies 29 : p. 19–27.
- Burton R. Pollin. Notre-Dame de Paris in Two of the Tales // Discoveries in Poe. - Notre Dame, Indiana : University of Notre Dame Press , 1970. - P. 24–37.
Ссылки
- в библиотеке Мошкова
- (англ.)
- Рассказ «The Cask of Amontillado» читает Винсент Прайс (моноспектакль), , (англ.)
- Дэвид Уорк Гриффит (1909) (англ.)
|
||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Бочонок амонтильядо
Глаза ее улыбались ожидая, губка с усиками поднялась, и детски счастливо осталась поднятой.Княжна Марья стала на колени перед ней, и спрятала лицо в складках платья невестки.
– Вот, вот – слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его, – сказала Лиза, блестящими, счастливыми глазами глядя на золовку. Княжна Марья не могла поднять головы: она плакала.
– Что с тобой, Маша?
– Ничего… так мне грустно стало… грустно об Андрее, – сказала она, отирая слезы о колени невестки. Несколько раз, в продолжение утра, княжна Марья начинала приготавливать невестку, и всякий раз начинала плакать. Слезы эти, которых причину не понимала маленькая княгиня, встревожили ее, как ни мало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая чего то. Перед обедом в ее комнату вошел старый князь, которого она всегда боялась, теперь с особенно неспокойным, злым лицом и, ни слова не сказав, вышел. Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала.
– Получили от Андрея что нибудь? – сказала она.
– Нет, ты знаешь, что еще не могло притти известие, но mon реrе беспокоится, и мне страшно.
– Так ничего?
– Ничего, – сказала княжна Марья, лучистыми глазами твердо глядя на невестку. Она решилась не говорить ей и уговорила отца скрыть получение страшного известия от невестки до ее разрешения, которое должно было быть на днях. Княжна Марья и старый князь, каждый по своему, носили и скрывали свое горе. Старый князь не хотел надеяться: он решил, что князь Андрей убит, и не смотря на то, что он послал чиновника в Австрию розыскивать след сына, он заказал ему в Москве памятник, который намерен был поставить в своем саду, и всем говорил, что сын его убит. Он старался не изменяя вести прежний образ жизни, но силы изменяли ему: он меньше ходил, меньше ел, меньше спал, и с каждым днем делался слабее. Княжна Марья надеялась. Она молилась за брата, как за живого и каждую минуту ждала известия о его возвращении.
– Ma bonne amie, [Мой добрый друг,] – сказала маленькая княгиня утром 19 го марта после завтрака, и губка ее с усиками поднялась по старой привычке; но как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини, поддавшейся общему настроению, хотя и не знавшей его причины, – была такая, что она еще более напоминала об общей печали.
– Ma bonne amie, je crains que le fruschtique (comme dit Фока – повар) de ce matin ne m"aie pas fait du mal. [Дружочек, боюсь, чтоб от нынешнего фриштика (как называет его повар Фока) мне не было дурно.]
– А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна, – испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми, мягкими шагами подбегая к невестке.
– Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? – сказала одна из бывших тут горничных. (Марья Богдановна была акушерка из уездного города, жившая в Лысых Горах уже другую неделю.)
– И в самом деле, – подхватила княжна Марья, – может быть, точно. Я пойду. Courage, mon ange! [Не бойся, мой ангел.] Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты.
– Ах, нет, нет! – И кроме бледности, на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания.
– Non, c"est l"estomac… dites que c"est l"estomac, dites, Marie, dites…, [Нет это желудок… скажи, Маша, что это желудок…] – и княгиня заплакала детски страдальчески, капризно и даже несколько притворно, ломая свои маленькие ручки. Княжна выбежала из комнаты за Марьей Богдановной.
– Mon Dieu! Mon Dieu! [Боже мой! Боже мой!] Oh! – слышала она сзади себя.
Потирая полные, небольшие, белые руки, ей навстречу, с значительно спокойным лицом, уже шла акушерка.
– Марья Богдановна! Кажется началось, – сказала княжна Марья, испуганно раскрытыми глазами глядя на бабушку.
– Ну и слава Богу, княжна, – не прибавляя шага, сказала Марья Богдановна. – Вам девицам про это знать не следует.
– Но как же из Москвы доктор еще не приехал? – сказала княжна. (По желанию Лизы и князя Андрея к сроку было послано в Москву за акушером, и его ждали каждую минуту.)
– Ничего, княжна, не беспокойтесь, – сказала Марья Богдановна, – и без доктора всё хорошо будет.
Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что то тяжелое. Она выглянула – официанты несли для чего то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что то торжественное и тихое.
Княжна Марья сидела одна в своей комнате, прислушиваясь к звукам дома, изредка отворяя дверь, когда проходили мимо, и приглядываясь к тому, что происходило в коридоре. Несколько женщин тихими шагами проходили туда и оттуда, оглядывались на княжну и отворачивались от нее. Она не смела спрашивать, затворяла дверь, возвращалась к себе, и то садилась в свое кресло, то бралась за молитвенник, то становилась на колена пред киотом. К несчастию и удивлению своему, она чувствовала, что молитва не утишала ее волнения. Вдруг дверь ее комнаты тихо отворилась и на пороге ее показалась повязанная платком ее старая няня Прасковья Савишна, почти никогда, вследствие запрещения князя,не входившая к ней в комнату.
– С тобой, Машенька, пришла посидеть, – сказала няня, – да вот княжовы свечи венчальные перед угодником зажечь принесла, мой ангел, – сказала она вздохнув.
– Ах как я рада, няня.
– Бог милостив, голубка. – Няня зажгла перед киотом обвитые золотом свечи и с чулком села у двери. Княжна Марья взяла книгу и стала читать. Только когда слышались шаги или голоса, княжна испуганно, вопросительно, а няня успокоительно смотрели друг на друга. Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверью, что чем меньше людей знает о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притвориться незнающими; никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна какая то общая забота, смягченность сердца и сознание чего то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту.
В большой девичьей не слышно было смеха. В официантской все люди сидели и молчали, на готове чего то. На дворне жгли лучины и свечи и не спали. Старый князь, ступая на пятку, ходил по кабинету и послал Тихона к Марье Богдановне спросить: что? – Только скажи: князь приказал спросить что? и приди скажи, что она скажет.
– Доложи князю, что роды начались, – сказала Марья Богдановна, значительно посмотрев на посланного. Тихон пошел и доложил князю.
– Хорошо, – сказал князь, затворяя за собою дверь, и Тихон не слыхал более ни малейшего звука в кабинете. Немного погодя, Тихон вошел в кабинет, как будто для того, чтобы поправить свечи. Увидав, что князь лежал на диване, Тихон посмотрел на князя, на его расстроенное лицо, покачал головой, молча приблизился к нему и, поцеловав его в плечо, вышел, не поправив свечей и не сказав, зачем он приходил. Таинство торжественнейшее в мире продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал.
Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянной злобой свои последние снега и бураны. Навстречу немца доктора из Москвы, которого ждали каждую минуту и за которым была выслана подстава на большую дорогу, к повороту на проселок, были высланы верховые с фонарями, чтобы проводить его по ухабам и зажорам.
Княжна Марья уже давно оставила книгу: она сидела молча, устремив лучистые глаза на сморщенное, до малейших подробностей знакомое, лицо няни: на прядку седых волос, выбившуюся из под платка, на висящий мешочек кожи под подбородком.
Няня Савишна, с чулком в руках, тихим голосом рассказывала, сама не слыша и не понимая своих слов, сотни раз рассказанное о том, как покойница княгиня в Кишиневе рожала княжну Марью, с крестьянской бабой молдаванкой, вместо бабушки.
– Бог помилует, никогда дохтура не нужны, – говорила она. Вдруг порыв ветра налег на одну из выставленных рам комнаты (по воле князя всегда с жаворонками выставлялось по одной раме в каждой комнате) и, отбив плохо задвинутую задвижку, затрепал штофной гардиной, и пахнув холодом, снегом, задул свечу. Княжна Марья вздрогнула; няня, положив чулок, подошла к окну и высунувшись стала ловить откинутую раму. Холодный ветер трепал концами ее платка и седыми, выбившимися прядями волос.
– Княжна, матушка, едут по прешпекту кто то! – сказала она, держа раму и не затворяя ее. – С фонарями, должно, дохтур…
– Ах Боже мой! Слава Богу! – сказала княжна Марья, – надо пойти встретить его: он не знает по русски.
Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу ехавшим. Когда она проходила переднюю, она в окно видела, что какой то экипаж и фонари стояли у подъезда. Она вышла на лестницу. На столбике перил стояла сальная свеча и текла от ветра. Официант Филипп, с испуганным лицом и с другой свечей в руке, стоял ниже, на первой площадке лестницы. Еще пониже, за поворотом, по лестнице, слышны были подвигавшиеся шаги в теплых сапогах. И какой то знакомый, как показалось княжне Марье, голос, говорил что то.
– Слава Богу! – сказал голос. – А батюшка?
– Почивать легли, – отвечал голос дворецкого Демьяна, бывшего уже внизу.
Потом еще что то сказал голос, что то ответил Демьян, и шаги в теплых сапогах стали быстрее приближаться по невидному повороту лестницы. «Это Андрей! – подумала княжна Марья. Нет, это не может быть, это было бы слишком необыкновенно», подумала она, и в ту же минуту, как она думала это, на площадке, на которой стоял официант со свечой, показались лицо и фигура князя Андрея в шубе с воротником, обсыпанным снегом. Да, это был он, но бледный и худой, и с измененным, странно смягченным, но тревожным выражением лица. Он вошел на лестницу и обнял сестру.
– Вы не получили моего письма? – спросил он, и не дожидаясь ответа, которого бы он и не получил, потому что княжна не могла говорить, он вернулся, и с акушером, который вошел вслед за ним (он съехался с ним на последней станции), быстрыми шагами опять вошел на лестницу и опять обнял сестру. – Какая судьба! – проговорил он, – Маша милая – и, скинув шубу и сапоги, пошел на половину княгини.
Маленькая княгиня лежала на подушках, в белом чепчике. (Страдания только что отпустили ее.) Черные волосы прядями вились у ее воспаленных, вспотевших щек; румяный, прелестный ротик с губкой, покрытой черными волосиками, был раскрыт, и она радостно улыбалась. Князь Андрей вошел в комнату и остановился перед ней, у изножья дивана, на котором она лежала. Блестящие глаза, смотревшие детски, испуганно и взволнованно, остановились на нем, не изменяя выражения. «Я вас всех люблю, я никому зла не делала, за что я страдаю? помогите мне», говорило ее выражение. Она видела мужа, но не понимала значения его появления теперь перед нею. Князь Андрей обошел диван и в лоб поцеловал ее.
– Душенька моя, – сказал он: слово, которое никогда не говорил ей. – Бог милостив. – Она вопросительно, детски укоризненно посмотрела на него.
– Я от тебя ждала помощи, и ничего, ничего, и ты тоже! – сказали ее глаза. Она не удивилась, что он приехал; она не поняла того, что он приехал. Его приезд не имел никакого отношения до ее страданий и облегчения их. Муки вновь начались, и Марья Богдановна посоветовала князю Андрею выйти из комнаты.
Акушер вошел в комнату. Князь Андрей вышел и, встретив княжну Марью, опять подошел к ней. Они шопотом заговорили, но всякую минуту разговор замолкал. Они ждали и прислушивались.
– Allez, mon ami, [Иди, мой друг,] – сказала княжна Марья. Князь Андрей опять пошел к жене, и в соседней комнате сел дожидаясь. Какая то женщина вышла из ее комнаты с испуганным лицом и смутилась, увидав князя Андрея. Он закрыл лицо руками и просидел так несколько минут. Жалкие, беспомощно животные стоны слышались из за двери. Князь Андрей встал, подошел к двери и хотел отворить ее. Дверь держал кто то.
– Нельзя, нельзя! – проговорил оттуда испуганный голос. – Он стал ходить по комнате. Крики замолкли, еще прошло несколько секунд. Вдруг страшный крик – не ее крик, она не могла так кричать, – раздался в соседней комнате. Князь Андрей подбежал к двери; крик замолк, послышался крик ребенка.
«Зачем принесли туда ребенка? подумал в первую секунду князь Андрей. Ребенок? Какой?… Зачем там ребенок? Или это родился ребенок?» Когда он вдруг понял всё радостное значение этого крика, слезы задушили его, и он, облокотившись обеими руками на подоконник, всхлипывая, заплакал, как плачут дети. Дверь отворилась. Доктор, с засученными рукавами рубашки, без сюртука, бледный и с трясущейся челюстью, вышел из комнаты. Князь Андрей обратился к нему, но доктор растерянно взглянул на него и, ни слова не сказав, прошел мимо. Женщина выбежала и, увидав князя Андрея, замялась на пороге. Он вошел в комнату жены. Она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном, детском личике с губкой, покрытой черными волосиками.
«Я вас всех люблю и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали?» говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо. В углу комнаты хрюкнуло и пискнуло что то маленькое, красное в белых трясущихся руках Марьи Богдановны.
Через два часа после этого князь Андрей тихими шагами вошел в кабинет к отцу. Старик всё уже знал. Он стоял у самой двери, и, как только она отворилась, старик молча старческими, жесткими руками, как тисками, обхватил шею сына и зарыдал как ребенок.
Через три дня отпевали маленькую княгиню, и, прощаясь с нею, князь Андрей взошел на ступени гроба. И в гробу было то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. «Ах, что вы со мной сделали?» всё говорило оно, и князь Андрей почувствовал, что в душе его оторвалось что то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть. Он не мог плакать. Старик тоже вошел и поцеловал ее восковую ручку, спокойно и высоко лежащую на другой, и ему ее лицо сказало: «Ах, что и за что вы это со мной сделали?» И старик сердито отвернулся, увидав это лицо.
Еще через пять дней крестили молодого князя Николая Андреича. Мамушка подбородком придерживала пеленки, в то время, как гусиным перышком священник мазал сморщенные красные ладонки и ступеньки мальчика.
Крестный отец дед, боясь уронить, вздрагивая, носил младенца вокруг жестяной помятой купели и передавал его крестной матери, княжне Марье. Князь Андрей, замирая от страха, чтоб не утопили ребенка, сидел в другой комнате, ожидая окончания таинства. Он радостно взглянул на ребенка, когда ему вынесла его нянюшка, и одобрительно кивнул головой, когда нянюшка сообщила ему, что брошенный в купель вощечок с волосками не потонул, а поплыл по купели.
Участие Ростова в дуэли Долохова с Безуховым было замято стараниями старого графа, и Ростов вместо того, чтобы быть разжалованным, как он ожидал, был определен адъютантом к московскому генерал губернатору. Вследствие этого он не мог ехать в деревню со всем семейством, а оставался при своей новой должности всё лето в Москве. Долохов выздоровел, и Ростов особенно сдружился с ним в это время его выздоровления. Долохов больной лежал у матери, страстно и нежно любившей его. Старушка Марья Ивановна, полюбившая Ростова за его дружбу к Феде, часто говорила ему про своего сына.
– Да, граф, он слишком благороден и чист душою, – говаривала она, – для нашего нынешнего, развращенного света. Добродетели никто не любит, она всем глаза колет. Ну скажите, граф, справедливо это, честно это со стороны Безухова? А Федя по своему благородству любил его, и теперь никогда ничего дурного про него не говорит. В Петербурге эти шалости с квартальным там что то шутили, ведь они вместе делали? Что ж, Безухову ничего, а Федя все на своих плечах перенес! Ведь что он перенес! Положим, возвратили, да ведь как же и не возвратить? Я думаю таких, как он, храбрецов и сынов отечества не много там было. Что ж теперь – эта дуэль! Есть ли чувство, честь у этих людей! Зная, что он единственный сын, вызвать на дуэль и стрелять так прямо! Хорошо, что Бог помиловал нас. И за что же? Ну кто же в наше время не имеет интриги? Что ж, коли он так ревнив? Я понимаю, ведь он прежде мог дать почувствовать, а то год ведь продолжалось. И что же, вызвал на дуэль, полагая, что Федя не будет драться, потому что он ему должен. Какая низость! Какая гадость! Я знаю, вы Федю поняли, мой милый граф, оттого то я вас душой люблю, верьте мне. Его редкие понимают. Это такая высокая, небесная душа!
Добавить в избранное
Эдгар Аллан По
Бочонок Амонтильядо
Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортунато, но, когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, так хорошо знающий природу моей души, не думаете, конечно, что я вслух произнес угрозу. В конце концов я буду отомщен: это было твердо решено, – но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мстителя настигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару.
Ни словом, ни поступком я не дал Фортунато повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо; и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.
У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности, – для того, чтобы удобнее надувать английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортунато, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном; но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы: я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу.
Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром, – как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить; он был одет арлекином: яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая.
Я сказал ему:
– Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере, продавец утверждает, что это амонтильядо, но у меня есть сомнения.
– Что? – сказал он. – Амонтильядо? Целый бочонок? Не может быть! И еще в самый разгар карнавала!
– У меня есть сомнения, – ответил я, – и я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.
– Амонтильядо!
– У меня сомнения.
– Амонтильядо!
– И я должен их рассеять.
– Амонтильядо!
– Вы заняты, поэтому я иду к Лукрези, Если кто может мне дать совет, то только он. Он мне скажет…
– Лукрези не отличит амонтильядо от хереса.
– А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас.
– Идемте.
– В ваши погреба.
– Нет, мой друг. Я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукрези…
– Я не занят. Идем.
– Друг мой, ни в коем случае. Пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены. В погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой.
– Все равно, идем. Простуда – это вздор. Амонтильядо! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрези – он не отличит хереса от амонтильядо.
Говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотней запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо.
Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной.
Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов; Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезоров.
Мой друг шел нетвердой походкой, бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге.
– Где же бочонок? – сказал он.
Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения.
– Селитра? – спросил он после молчания.
– Селитра, – подтвердил я. – Давно ли у вас этот кашель?
– Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха!
В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.
– Это пустяки, – выговорил он наконец.
– Нет, – решительно сказал я, – вернемся. Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградимой утратой. Другое дело я – обо мне некому горевать. Вернемся. Вы заболеете, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукрези…
– Довольно! – воскликнул он. – Кашель – это вздор, он меня не убьет! Не умру же я от кашля.
– Конечно, конечно, – сказал я, – и я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу. Однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого медока защитит вас от вредного действия сырости.
Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко.
– Выпейте, – сказал я, подавая ему вино.
Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне, бубенчики его зазвенели.
– Я пью, – сказал он, – за мертвецов, которые покоятся вокруг нас.
– А я за вашу долгую жизнь.
Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.
– Эти склепы, – сказал он, – весьма обширны.
– Монтрезоры старинный и плодовитый род, – сказал я.
– Я забыл, какой у вас герб?
– Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку.
Скачать книгу: